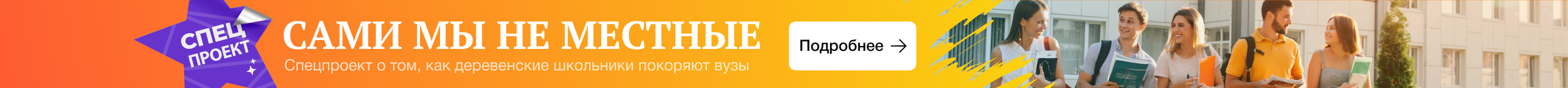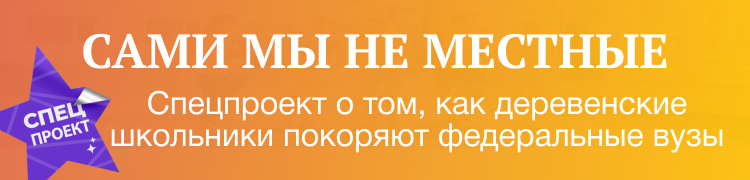Стихи — это друг
— Линор, расскажите о своих ощущениях от Красноярска и от книжной ярмарки.
— Это уже пятый КрЯКК; я была, кажется, на трех. Я люблю этот город, мне здесь очень комфортно. Одно из самых приятных моих впечатлений от Красноярска — удивительная адекватность публики (это не связано с «Москва» или «не Москва», это или есть, или нет); тут возникает ощущение, что читаешь перед людьми, которые знают, зачем они сюда пришли.
Я не очень внимательно слежу за процессом развития книжной культуры, но по моим ощущениям — это одна из лучших книжных ярмарок, на которых мне доводилось бывать. Плюс — КРЯКК дорог мне как читателю, театральному зрителю, слушателю лекций (например, лекции Бартенева), покупателю кучи книг. Казалось бы, легче купить в Москве, чем везти отсюда, — но тут так подобраны издатели и организовано пространство, что имеет смысл покупать здесь.
— Вы приезжаете на ярмарку в Красноярск, сейчас сотрудничаете с одним нижегородским журналом. Как часто происходят такие контакты с регионами?
— Я никогда не отказываюсь сотрудничать ни с одним региональным изданием, потому что мне вообще все равно, региональное оно или нет. Если меня просят написть текст — это всегда лестно, а если этот текст еще и интересно писать — я соглашаюсь. Вот и все.
— Вы ушли из журнала «Сноб». Чем сейчас занимаетесь?
— Вы, наверное, имеете в виду мою работу в «Снобе» в течение года, с мая по май. Я не ушла: я закончила проект, на который пришла, то есть создание отдела маркетинга, разработку маркетинговой базы и подготовку постоянного директора по маркетингу (это Наташа Липкина, мой близкий друг и прекрасный специалист). Вообще же у меня есть сколько-то параллельных жизней; бизнес-консультирование — одна из них, в ней я сейчас веду еще две очень больших проекта. Другая — та, в которой я в меру своих способностей занимаюсь теорией повседневного костюма, — скажем, читаю курс «Повседневный костюм и идентичность» в Высшей школе экономики. Третья — это эссеистика: например, сейчас на сайте «Букник» стартовала моя давно вымечтанная колонка про жизнь в городской среде; еще одна стартует в этот понедельник на OpenSpace — про мое новое любимое животное — «состоявшуюся интеллигенцию»; в этой же жизни я пишу сейчас новую детскую книжку, non-fiction; очень хочется надеяться, что из нее что-нибудь получится. Есть четвертая жизнь — в ней я сейчас готовлю выставку, она очень важна мне и, с божьей помощью, откроется в январе. А главная — это, наверное, стихи. Вроде как начала складываться новая книжка; я даже думала, что почитаю что-то новое здесь, на КрЯКК, — но, кажется, пока не готова. Но это сейчас, да, важнее всего.
— Здесь на ярмарке главный редактор издательского дома «НЛО» Ирина Прохорова сказала, что издавать поэзию сегодня — «это финансовая катастрофа». А как Вы считаете, есть будущее у стихов в книгоиздании?
— Я никак не эксперт, — но, кажется, будущее того, что мы до сих пор называли «книгоизданием», — это очень сложная тема. Мы все, — авторы, читатели, издатели, — явно перестаем думать «книгами» в старом смысле этого слова, и разговор на эту тему касается не только поэзии. Мы начинаем думать другими единицами контента: текстами, постами, подкастами, публикациями с продолжением — и так далее. Текст начинает жить в публичном пространстве какой-то новой жизнью (это не в первый раз, и от того только интереснее — и сложнее). Скажем, вот есть мир видеопоэзии — это большой и важный жанр, очень мне как читателю дорогой; он восходит и к видеоарту, и к перформансу, и к авторским чтениям, но понятно, что его формат — не поэтическая книга.
С другой стороны, поэзия в рамках традиционного книгоиздания всегда была уязвимой, — особенно та поэзия, которую лично я больше всего ценю как читатель. Это тексты зачастую не ищут массового читателя и в качестве книг выходят малыми тиражами. Такая книга, изданная на бумаге, и для автора, и для читателя имеют скорее символическое значение: зачастую те же тексты есть онлайн (я не припомню сейчас ни одного поэтического текста, который был бы опубликован на бумаге и не был бы опубликован онлайн, кстати). Конечно, с точки зрения книгоиздателя такая поэзия и раньше была мертвой зоной, а теперь особенно.
— Но это как-то повлияет на поэзию?
— Скорее в хорошем смысле. Мне кажется, что чем меньше поэт заботится о проблеме «напечататься» и чем больше он думает о тексте, тем лучше и для текста, и, может быть, для поэта (ну, по крайней мере, за себя я могу отвечать). Не помню, чтобы кто-нибудь из авторов, которых, скажем, я так ценю в качестве читателя, очень заботился проблемой «издать книжку»: у всех есть способы быть прочитанными тем, для кого это важно, — и хорошо.
— Посетители КрЯКК раскупают Вашего «Зайца ПЦ». Расскажите немного о нем.
— Это ужасно приятно, — тем более, что Заяц как существо безумно мне важен. Если рассказывать о том, как он появился, — ну, я хотела делать комикс, что-то крутилось в голове, не было только персонажа. Мы сидели с Гавриловым (Александр Гаврилов — критик, редактор, литературный деятель — прим. В.Ю.) в старом ОГИ и начали рисовать, простите за пошлость, на салфетках… К тому моменту мы с Сашей уже сделали один похожий проект (ну про зайцев, понятно, про зайцев): он назывался «Нереальные зайчики», и это тоже был своего рода комикс. И еще один комикс с зайцем у меня к тому времени был, этого зайца звали Валерий Маркович, — но он меня не устраивал: он был печальный мрачный мудак, вроде меня; это скучно. А Заяц ПЦ — брутальный мрачный мудак, он говорит все те вещи, которые я не хочу говорить (а иногда и думать). Вот это очень меня развлекает. Так что мы с Гавриловым начали его придумывать, я его нарисовала, и мы решили, что самого зайца будут звать ПЦ. Так что мы с Зайцем много лет вместе, и я очень хорошо к нему отношусь. Сомневаюсь, что это взаимно, но он меня не бросает, — что ж, спасибо и на том.
— В одном из интервью Вы говорили, что очень интересуетесь массовой культурой. Легко ли современной литературе говорить человеку, существующему в этой культуре, о ценностях?
— Тут есть две темы, два разговора. Один — о том, что такое «массовость» вообще, а другой — о том, что такое «ценности» вообще. «Массовая литература» — это сложное понятие; если это — литература, которую читает много людей, то она бывает превосходной (мы помним, да, что Пушкин писал «массовую литературу»?) Cкажем, Филлис Дороти Джеймс — блистательный, на мой вкус, прозаик; детективы Акунина я очень люблю; рассказы Этгара Керета безумно популярны на двух десятках языков; Каннингема читают очень широко, — это вообще огромный (и очень разнообразный) список. «Массовость» не определяет ничего: ни интенций автора, ни качества окончательного продукта. Положим, тексты «Радио Шансон» можно считать мраком и ужасом с точки зрения качества, — но и там случаются шедевры (это вообще непростой жанр). Да, мы часто брезгуем этим жанром, — но к нему имели отношение и Высоцкий, и Галич, и даже Бродский (некоторым неочевидным образом), и Коэн, и Гинзбург, и Брассенс, и Азнавур, — и так далее, и так далее. На поэтику шансона («городского романса», «тюремного романса», «трувера» — как хотите) опирались многие выдающиеся авторы. Жанр не определяет качества текста, как не определяет его и количество людей, читающих или знающих произведение (другое дело, что есть произведения, которые никогда не будут широко известны, — но не это делает их «немассовыми»; полагать так — значит, нарушать причинно-следственные связи).
Разговор же о ценностях в массовой культуре — еще сложнее. Чем качественнее текст, тем сложнее говорить о «безусловных ценностях» в нем: он по определению избегает ходульных образов и сюжетов, ассоциирующихся у нас с «понятными ценностями». Но даже в самой простой «массовой литературе» ситуация совсем не проста. Скажем, вот есть тексты, романтизирующие насилие (возвращаясь к теме «тюремного романса»). Но как раз эти тексты часто поддерживают «безусловные ценности»: здесь все по понятиям. Дружба до смерти, верность до гроба, совесть важнее денег, мать — это святое… Возьмите «бульварный роман»: он может говорить об адьюльтере, но как раз с точки зрения «ценностей» он совершенно однозначен. Адюльтер вне брака кончается плохо: для мужчины — разорение, презрение семьи и сифилис, для женщины — беременность с последующим бегом к пруду. А чем текст качественнее, тем сложнее говорить об однозначности «ценностей» в нем. Скажем, детективы Акунина кажутся мне однозначно «патриотическими детективами», но это очень непростой патриотизм. Словом, и здесь «массовость» не является однозначным определителем отношений между текстом и «ценностями».
— А кто из современных авторов Вам интересен?
— Мне легче говорить о поэзии, — и тут список был бы очень длинным. Вот из последних впечатлений — новые тексты Юлии Идлис показались мне очень важными; новая книга (и написанные после нее) тексты Павла Гольдина; недавно же написанные и, кажется, еще не опубликованные (но прочитанные на одном поэтическом вечере) тексты Кости Рубахина. А если говорить про прозу — тут я пас. Мой круг чтения сейчас — русская проза 19 века да английские детективы.
— А что из литературы XIX века влияет на Вас больше всего?
— Ну, вы же понимаете, насколько это сложный вопрос. Скажем, «Капитанская дочка» крайне дорога мне, — и как изумительная проза, и как пример построения исторического романа; каждый раз, когда я ее перечитываю, я чувствую, что тут имеет место чистое чудо. Про Гоголя — первая часть (первого тома, да-да) «Мертвых душ» (хотя и «Ревизор» вызывает у меня чувство чуда). Лесков. Гончаров. Ну, чего перечислять.
— Выступая на КрЯКК, Вы затронули такую тему: что чувствует поэт, когда он не может писать стихов? Что Вы чувствуете в такие периоды?
— Я — тревогу. Кажется, что ты не просто разучился писать, а что все гораздо хуже: у тебя есть потребность говорить, но пропал голос. Я не знаю, как это устроено у других, но хотела бы узнать, наверное: может быть, мы все иногда переживаем похожие вещи, — но ведь как-то переживаем и движемся дальше.
— А что Вы чувствуете, когда снова можете писать?
— Что вернулся друг, которого ты считал потерянным. Стихи, как бы неприятно они ни давались (а иногда они даются мне очень неприятно и тяжело, и писать я их откровенно не хочу, но не написать не могу) — это своего рода друг. Очень тяжелый, требовательный, с дурным характером, — но друг, с которым ты можешь говорить про такие вещи, про которые без него не можешь говорить даже с собой. И, что важнее всего, говорить таким способом, чтобы не стать окончательно себе отвратительным.
Беседовала Варвара ЮШМАНОВА