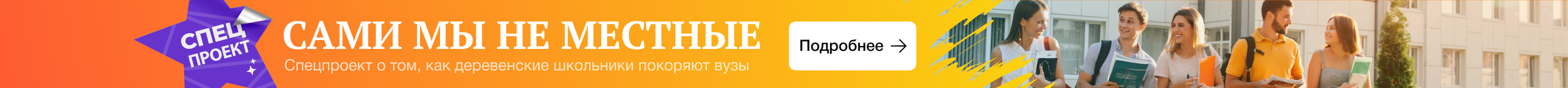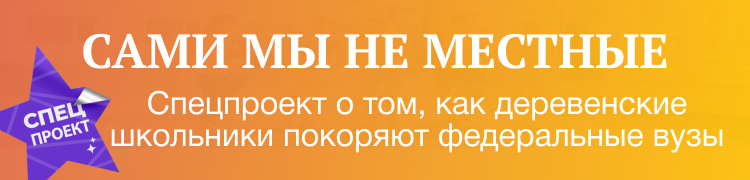Мы так говорим о советском времени, как будто все успели умереть и забыть, как тогда было
О книжном проекте «Намедни. Наша эра»
В Красноярске я представляю два проекта.
Вчера мы показывали фильм, последний по времени, «Цвет нации», снятый нашей группой «Намедни». Фильм посвящен фотографу Прокудину-Горскому и 1900 сохранившимся цветным негативам, на которых можно увидеть дореволюционную Россию в цвете, в сегодняшних стандартах изображения.
Сегодняшняя встреча (встреча прошла 3 ноября — ИА «Пресс-Лайн») посвящена седьмому тому книжного проекта «Намедни. Наша эра», который вышел буквально только что, в октябре.
Когда-то был сериал «Намедни. Наша эра», который охватывал период с 1960 по 2003 годы. Тогда побудительным мотивом было объяснить, что вот был поздний Советский Союз, который сформировал все российские поколения. Сериал начался в 1997 году. То есть людям, которые родились в год слома советской власти, было всего-навсего шесть лет. И в этом смысле все были советскими людьми.
В то время было ощущение, что это прошлое — очень специфическая, особая цивилизация, которая на всех повлияла. И вот такие криво сформированные этой цивилизацией люди входят в новую эпоху, послесоветскую, во «второй русский капитализм». Ну то есть первой целью было напомнить о том времени. А во-вторых, у нас был слоган: «То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять» — в том смысле, что без этой специфики предыдущего опыта, «феноменов» невозможно понять, почему нынешняя Россия вот такая, а не сякая.
Где-то в середине 2000-х стало ясно, что никуда Советский Союз не ушел. Он остался такой матрицей, на которую наложилась новая реальность.
Я придумал тогда формулу: «Мы живем в эпоху ренессанса советской античности», она остается таким вечным образцом для подражания. Россиянин в большинстве массы своей по-советски выбирает власть, служит в армии, получает образование, лежит в больнице, грозит загранице, болеет за сборную, поет советский гимн, продает углеводороды и так далее, и так далее.
Тогда начался этот книжный проект, несколько под другим углом. Он уже давно исчерпал годы, которые были в телесериале. Это седьмой том по счету, и как бы нулевой по порядку: были 60-е, 70-е, 80-е и 90-е, потом 2000-е, которые требовали большей подробности, поскольку дистанции нет, всем еще все помнится, и мы сделали 2001–2005, потом 2006–2010 годы.
Новый том охватывает 1946–1960, такой полуторный том за 15 лет — это вообще самое большое, что я в жизни сделал. Беловик составил 1200 страниц.

Проекту уже семь лет, получается, по одной книге в год. Оформление всегда было в одном стиле. Если взять разворотом обложку, мы пытались представить мир тогдашнего советского человека. Применительно к 1946–1960 годам — это, соответственно, фикус, семь слоников, которые счастье должные приносить, салфеточки-пылесборники, которые, как считалось, добавляли уюта. В шашки тогда играли — сейчас никто в шашки не играет, и молодые фотографы, которые обложку снимали, даже не знали, как расставить шашки на доске, ждали, когда я приду и поиграю за белых и за черных. Курили тогда обязательно прямо в комнатах, хотя жили тесно, и этот страшный «Казбек», пепельница — такая штамповка стеклянная, которая делала вид, что она хрустальная. Пижамы были таким почтенным костюмом у мужчин зрелых лет — выйти, перед подъездом пройтись, или же в санатории прогуливались такие толстые дядечки. И прочее, прочее.
Об эпохе
В том вошли две эпохи. От послевоенного замораживания, когда неожиданно народу-победителю было указано: «знай сверчок свой шесток» всеми этими постановлениями в журналах «Звезда» и «Ленинград» и заявлениями «генетика — продажная девка империализма», «лженаука кибернетика» и всем на свете. И до оттаивания, до оттепели, которая началась со смертью Сталина, когда уже даже прямой наследник Маленков не мог жить так, как жили при вожде.
Я родился в 1960-ом и застал только один год из книги. Я не был в 1960-е годы способен что-то там оценивать, но ощущение этой эпохи было. Как мама утверждает, что эта ее знакомая умеет ходить на шпильках, а эта — нет, потому что «раскачиваться нужно не вульгарно». Как шуршал плащ-болонья. Как заговорили про всевозможные сибирские стройки — вот этот вот метод «чем дальше в лес, тем больше ГЭС». Журнал «Юность», свернутый в трубочку, а там какая-то новая проза: Евгений Евтушенко «Стихи» или повести Василия Аксёнова.
Она вот такая, эта эпоха. Ее довольно просто понять — достаточно открыть роман Ильи Эренбурга «Оттепель» и понять, из какого действительно замороженного состояния в эту оттепель люди переходили, от чего они оттаивали, и какие ничтожные почти движения души, совсем робкие, они принимали за то, что они вздохнули полной грудью. На самом деле, это было прерывистое еще дыхание, но все равно они уже тянулись друг к другу, из них стал уходить страх и так далее.
Эти вещи легко реконструируемы. Что уж говорить о нас, скромных деятелях масс-медиа, когда даже Лев Толстой участвовал в войне Крымской 1854-56 годов, а главную книжку написал про Отечественную войну 1812 года, которая была за 16 лет до его рождения. Никому это не мешало.
О методе и феноменах
В книге монтажный метод подачи событий и явлений. Вот «Соцлагерь», например. Про него можно подробнее объяснить, иначе вы никогда не узнаете, почему столько времени Венгрия и Польша были как одна страна. Всю историю были не похожи, а тут стали похожи. Или восточные земли Германии и Болгарии были одинаковыми. Откуда, почему у них у всех все было одно: от пионерской организации до госплана? Вот так делали эти маленькие «совки» из этих несчастных восьми стран-сателлитов.
Это всего лишь метод, я так рассказываю. Можно каким-нибудь другим — ради бога. Это же не золото во мраморе, возможны другие методы, трактовки и так далее. Мое дело — сделать, чтобы было интересно. В этом и заключается журналистика: ты берешь сущностную информацию и стараешься превратить ее в какой-то интересный, современный медийный продукт, который потенциальный потребитель может потреблять, извините за тавтологию.
Нет никакой трудности, специфики в составлении тома про 1990-е или про 1960-е. Метод один: или ты понимаешь, что ты напишешь в лиде — то, что пишется жирным шрифтом, — в котором нужно сформулировать, что, собственно, произошло и какова новизна — так называемый инфоповод. Если знаешь, о чем писать в лиде, то понятно, о чем писать вообще.
Вот, по-моему, в 2006-ом по серорастаможенному, переразлоченному айфону было объяснение про появление айфонов в России. И понятно, что айфон, особенно для того времени, — это тот мобильник, который, если пришел в кафе и бросил его на стол, то это все равно что паспорт, это ID, выбор религии. «Вот у тебя Samsung, а у меня iPhone, и вместе нам не сойтись, мы из разного теста сделаны, у нас разная группа крови».
Вот это и есть принцип формирования этой «феноменологии»: этого раньше не было, теперь появилось, и все обогащенное опытом человечество дальше двинется, с этим будет идти по жизни. Нужно зафиксировать это прибавление опыта, что-то такое в жизненном багаже, довесочек, который случился. Это не имеет никакого отношения ко времени, это абсолютно универсально и для 1940-х, и для 2000-х.
Есть единственная специфика, что про совсем недавнее время приходится писать несколько подробнее. Про недавнее люди помнят все, и у них будет ощущение неполноты, недосказанности, оттого, что что-то не упомянешь, и приходится страшно подробно упоминать. Нет дистанции, за которой стираются детали, остается только главный повод.
Точно так же с более давними событиями — приходится чуть подробнее писать, чтобы объяснить систему координат. Как, например, занятно объяснить про «антипартийную группу Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова», если ни одна живая душа не знает, что вообще такое Президиум ЦК КПСС?

О планах на будущее и прошлое
Меня часто спрашивают, буду ли я писать про военный и довоенный период. Я не уверен. Что касается войны, то, мне кажется, этим методом она не излагается. Это слишком монотемная эпоха. 1943 год — это же все равно только Сталинград. Ну ладно, в 1943-ем еще вышел фильм «Жди меня», перешли на погоны, но все равно это будет такая огромная-огромная котлета и чуть-чуть гарнирчика. Не было полноты жизни, она вся сводилась к одному феномену.
Что касается 1930-х и более ранних годов, то в принципе от начала активной фотографии никаких проблем с иллюстрацией вообще не существует, весь ХХ век можно сделать таким методом книг-альбомов. Но дальше проблема заключается в том, что если человеку еще можно объяснить, зачем ему сегодня было бы интересно прочитать про Хрущёва, то про Горемыкина и Штюрмера (были такие премьеры до революции), боюсь, не хватит никаких усилий занимательности, чтобы убедить, что это еще как-то касается его сегодня.
Я надеюсь, что еще сделаю 2011–2015 годы — к этому я буду готов уже в январе 2016 года. Более раннее — не знаю, для меня это до сих пор открытый вопрос.
Об учебниках и образовании
Учебником книга точно не является. Вообще мне не кажется, что высшая честь книжки — стать учебником.
Такое представление только у членов комиссии по борьбе с фальсификацией истории в ущерб Российской Федерации (то есть в пользу Российской Федерации все-таки можно фальсифицировать). Они свято убеждены, что как напишут в учебниках, так все и будут знать. Вот вы помните, в каком году была Жакерия — крестьянское восстание во Франции, например? Зря не помните, в учебнике за шестой класс это жирным шрифтом было выделено, вы должны были это запомнить — по ИХ мнению. Но, естественно, вы это не запомнили, ну и что?
Я не призываю изучать историю по себе, по своей книге. Но согласен, что учебники наши сегодня невозможно читать. Они идеологически заряженные, все время занимаются какой-то адвокатурой. И Россия представляется в наших учебниках, как КПСС в учебнике Пономарёва — такая страшная книга, темно-зеленого, бурого цвета под его редакцией. Был такой Борис Николаевич Пономарёв, секретарь КПСС, про таких в «Калине красной» говорили, что об их лоб можно шестимесячных поросят бить.
И вот в этом томе самое поразительное всегда было, что КПСС была права и всегда равна самой себе. Она содержала левые и правые уклоны, вводила НЭП всерьез и надолго, отменяла НЭП, всегда была права и никогда не менялась. Хотелось спросить: «Как же так? Ведь 100 страниц назад говорилось совсем про другое, вот же». Нет, говорят. Божество такое высшее. Вот так и Россия. Она и когда с Гитлером заключала союз против Великобритании и Франции, была права, а потом с Великобританией и Францией заключала и опять была права.
Это как Аденауэр — послевоенный долговременный канцлер Германии, который совершил «германское чудо», когда немецкая экономика снова стала мотором всей европейской. На первых переговорах с СССР, который тогда еще не признал ФРГ, в Кремле ему Молотов сказал, что в Германии еще живуч гитлеризм. На что 79-летний канцлер вскочил и заорал: «А кто с ним заключал союз о дружбе: вы или я?!»
Еще одна проблема наших учебников — это то, что они написаны людьми, которые, по-моему, просто не владеют письменным русским языком. Они не знают, что в русском языке во фразе должен быть глагол действия, и все ввязываются в модальности: «был», «стал», «должен». Это суконная какая-то бумага, которую просто невозможно прожевать, а уж тем более проглотить.
Мне всегда было интересно сравнивать учебники 1950-х годов и 1960-х, 1970-х. Читать я научился по букварю двоюродного брата, который на два года раньше меня учился, — это был желтый такой букварь. Поэтому потом синий мне был уже не интересен, читать я уже умел. Желтый букварь я дочитал весь до конца, и на последней странице там был такой веселый улыбающийся человек со многими звездами, в светлом костюме и красном галстуке. О нем было написано: «Активный борец за мир во всем мире товарищ Никита Сергеевич Хрущёв». Когда я спросил, а это кто, мне ответили: «Нет, уже не надо. Не надо знать».
Мне кажется, что не из учебников люди историю узнают. Наше поколение представляет маршала Жукова Михаилом Ульяновым в киноэпопее «Освобождение». Вот и все, и никакого другого Жукова нету, чего бы нам ни написали в учебниках. А люди еще постарше представляют Наполеона Стржельчиком в бондарчуковской экранизации «Войны и мира». Благо, он там говорил по-французски. И никакой учебник это не перешибет.
Если вам бабушка рассказывала, что коллективизация — это ужас, что это были не кулаки, а главные труженики, а всех тогда порезали, и хлебушка в году 1935-ом совсем не стало, то, сколько бы вам ни рассказывали о победном шаге колхозного строя, вы никогда не поверите в эти слова. Потому что бабка вам говорила, что там, где сейчас сарай, у них была конюшня и две коровы. Так и лошадь забрали, и обеих коров, а потом жрать было нечего. Никакая контрпропаганда не спасет советскую власть от стихийного, низового антисоветизма вашей бабушки. Я все время это слышал с детства, и для меня было нормальным, что люди ругают советскую власть.
Меня никто не обучал истории. У меня советское высшее гуманитарное образование — то есть никакого. Я проходил, как и все, ровно те же лженауки. Возьмите дипломы выпускников гуманитарных советских вузов, откройте вкладыш, и вы ужаснетесь. По-хорошему, нас всех нужно лишить права называть это высшим образованием. Я нигде не работаю, никакой отдел кадров мной не интересуется, но в принципе эти дипломы все должны пройти люстрацию. Что мы сдавали? Научный коммунизм, история КПСС, теория и практика партийной журналистики, критика западной буржуазной печати, научный атеизм, политэкономика капитализма — это все лженауки, это все чушь собачья.
О книгах, которые читают все
Я почти не читаю сейчас художественную литературу. Есть ощущение, что все книги, которые нужно было прочесть, уже прочитаны. После того, как Набокова напечатали, всерьез ни один автор меня не удивлял. Я очень много читаю нон-фикшна, благо, это все напечатано: переписка, мемуары, просто документы — мне это гораздо интереснее.
Последнее, что читал из художественных книг — это Александра Терехова «Каменный мост» и Людмила Улицкая «Зеленый шатер». И то, в общем, только потому, что возникли книжки, которые в твоем круге общения все читали. Этого долго-долго не было, а потом вдруг все это читали. Сейчас этого все меньше и меньше, поскольку и предложений больше, и разница во вкусах. И вот когда такое возникает, хочется сразу прочесть.
О любимом историческом периоде
У меня нет любимого исторического периода. К этому у меня отношение как у закройщика к шкурке: что из этого можно сделать? У меня нет такого, как это Фаина Раневская говорила: «Хочу назад в XIX век». Нет у меня чувств по поводу какой-то эпохи.
Есть какие-то деятели, деятельность которых, конечно, вызывает уважение, есть просто яркие фигуры. Но любимого деятеля у меня нет. Вот Никита Сергеевич Хрущёв прекрасен тем, что ничего не стеснялся в это стеснительное и зажатое время, фотографировался самым невероятным образом — хоть всего публикуй. Но это такой специфический интерес, он не означает, что я его как-то особо люблю. Понятно, что можно оценить и фразу Черчилля, который обещает нации кровь, пот и слезы. Человек, который приходит и говорит, что положение аховое и легко мы из него не выйдем, но мы должны это пройти. Это не может не вызывать уважения, такой уровень откровенности национального диалога. Ну или известная фраза Столыпина: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».

О Советском Союзе
Если коротко, то я плохо отношусь к советскому времени. В советском периоде тоже, конечно, можно выбрать то, что вызывает уважение, но надо судить все же по коренным чертам строя. Простой пример: сборная ГДР на Олимпиадах всегда собирала больше золотых медалей, чем сборная ФРГ. Но что теперь Германии, не объединяться? Ведь такую сборную олимпийскую потеряли?
Понятно, что солнце светило ярче, и мы были моложе, и все было хорошо — но очевидно же, что советский строй был построен на насилии и на лжи. Не работает государственная экономика — не построим коммунизм. Чушь это все собачья, сознательная причем. Это десятилетия обмана и насилия. Потому что фактом своего рождения ты должен быть приверженцем этой теории: если ты родился советским человеком, то должен чтить марксизм-ленинизм, всепобеждающее учение всего человечества.
Мне многое сегодня не нравится, но ясно, что сегодня возможностей и свобод больше. Не для всех, это тоже понятно. Мы же с вами застали «отоваривание» талонов, но деньги же ничего не значили. Мясо, говядина, считалось, что по два рубля, но только ее не было — ни по два рубля, ни по три. Деньги и товар не имели ничего общего. Можно было годами держать деньги, отложенные на сапожки маме, но приходила осень, и опять мама без сапожек.
Мы так говорим теперь об этом времени, как будто все уже успели умереть и забыть, как тогда было.
Если говорить, что советскость — это античность, то мне, как человеку, заставшему это время, кажется, что сейчас — поздний Брежнев напрашивается, конечно. Из-за отсутствия динамики. Тогда 1973-ий не отличался от 1974-го. Сейчас же совершенно очевидно, что кроме каких-то нехороших новостей больше ничего не происходит.
Мы понимаем, что нет движения вперед, есть поддержание статус-кво. Это не самоцель, тем более что и статус-кво не совсем удается поддерживать — у нас уже доллар по 43 рубля, а евро — по 54. Так что даже это не держится. Никаких 60 копеек за доллар, о которых нам писали каждый месяц в газете «Известия», быть уже не может. Нет целеполагания, нет развития, вот это я чувствую остро.
О Made in Russia
Нам все время известно, против чего мы, а за что? Есть ощущение, что вместо того, чтобы вернуться в Европу, мы почему-то от нее загораживаемся. Хотя я вот не возьмусь утверждать, что сейчас здесь в зале есть что-нибудь, сделанное в России: от колонок до ковролина. Люди-то да, хорошие. «Все, что мы делаем руками, у нас плохо получается, зато дети очень хорошие».
Я недавно открыл надпись Made in Russia. Раньше она была на дне стаканов граненых, самых дешевых. Потом они стали французскими. Атас, что называется. А теперь совсем недавно открыл и страшно был горд, что из моего края: Ikea нашла, что локализовать — их кухонные полотенца, они российские. Такие расхожие, которые сдираются, у поваров летят по четыре штуки за смену.
О телевидении
У меня нет особой ностальгии по каждодневной работе на телевидении. Я работаю там, где можно работать, использовать условия для работы. Ящик, в смысле телевизор, очень приручает к тому, что одного желания недостаточно. Должны быть деньги, команда, эфирные возможности, техника и прочее, прочее. Поэтому можно спокойно переключаться с одного на другое. Сказать, что я совсем не работаю на телевидении, нельзя, потому что я каждый год выпускаю по фильму. Вот фильм про Прокудина-Горского, на час двадцать — в принципе больше за год сделать нельзя, потому что его снимали в России, Грузии, Узбекистане, Франции и США.

О журналистике
О будущем российской журналистики меня много спрашивают. Почему-то про журналистику спрашивают журналиста. Про журналистику нужно спрашивать аудиторию.
Она существует не потому, что журфаки выпускают журналистов, а потому что ее кто-то читает, слушает и смотрит. Если ее не читают, не слушают и не смотрят, ее нет, она скукоживается.
Я уже 250 раз приводил пример. Когда-то «Коммерсантъ» был единственной российской буржуазной газетой — такая качественная пресса, которая от мировой политики до балета освещает все. Как New York Times. Есть человек, который пишет о балете, и есть страница, где, если что-то в балете было, это не будет пропущено. А также в живописи, кинематографе, бизнесе и так далее, и так далее. 16 страниц — вынь да положь, все на свете.
Вот у нас такая газета была — ну хорошо, будем считать, что еще есть. Одна. Она пишет себе тираж 100 тысяч экземпляров. Население Англии в два с половиной раза меньше России, у них четыре таких газеты, самая большая — Daily Telegraph тиражом полмиллиона экземпляров. Я говорю про бумажный тираж — понятно, что проникновение интернета в Англии выше, и число онлайн-читателей в несколько раз больше этого полумиллионного бумажного тиража. В Италии четыре такие газеты, во Франции — три, и так далее. У нас нет журналистики прежде всего потому, что у нас нет интереса. Если нет общественно-политической жизни, то не будет общественно-политической журналистики.
Если говорить о дореволюционной русской журналистике, то ее мы себе представить даже не можем. Была газета «Одесский листок», главная региональная газета страны, в которой писались лучшие литературные силы, публиковали Бунина, например. Вот можете представить, что Владимир Жаботинский был корреспондентом одесской газеты в Риме, а Корней Чуковский — в Лондоне? Мы не понимаем и этот уклад жизни, и какая была потребность у газеты иметь лондонского корреспондента — у одесской газеты.
Вы у себя спросите про журналистику. Если у нас общенациональная газета — это таблоид с первой полосой «Тина Канделаки: Сейчас мне не до секса», то какая у нас национальная повестка дня? Ну какое тут место журналистике?
Записал Александр Ибрагимов — ИА «Пресс-Лайн»